Мастерская Ю.Н. Бутусова
Да озарит тебя искра, будто бы камень о камень
«Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив»
— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли. (с)
Смотреть спектакли по классике, поставленные как краткий пересказ для всех не успевших дочитать, всем давно надоело. Как и ставить такое. Театр давно перешел в эру, когда произведение воспринимается через режиссера, а каждый спектакль является личным культурным событием для зрителя, имеющего свой культурный багаж и бэкграунд. Поэтому смотреть дипломный спектакль «БЕСЫ» Андрея Хисамиева следует, зная первоисточник. Ну, желательно. Никто на входе не спрашивает, читали ли вы Достоевского.
Спектакль представляет собой изнанку романа — он не про хищников, для которых люди лишь ресурс и средство достижения цели, а как раз про тех самых несчастных травоядных, которые встретились на пути. История концентрируется на Шатовых и Кириллове, рассказывается с середины и завершается не книжным финалом, а финалом жизненным, оставляя все прочее за кадром. И если роман «Бесы» ставрогиноцентричен, то здесь того нет вовсе. Есть лишь Верховенский, выполняющий, скорее, функцию техническую, чем драматургическую. Он связывает жизни героев воедино и представляет собой жернова судьбы, перемалывающие людей ради чего-то большего, им неведомого и непонятного.
— Кто учил, того распяли. (с)
Смотреть спектакли по классике, поставленные как краткий пересказ для всех не успевших дочитать, всем давно надоело. Как и ставить такое. Театр давно перешел в эру, когда произведение воспринимается через режиссера, а каждый спектакль является личным культурным событием для зрителя, имеющего свой культурный багаж и бэкграунд. Поэтому смотреть дипломный спектакль «БЕСЫ» Андрея Хисамиева следует, зная первоисточник. Ну, желательно. Никто на входе не спрашивает, читали ли вы Достоевского.
Спектакль представляет собой изнанку романа — он не про хищников, для которых люди лишь ресурс и средство достижения цели, а как раз про тех самых несчастных травоядных, которые встретились на пути. История концентрируется на Шатовых и Кириллове, рассказывается с середины и завершается не книжным финалом, а финалом жизненным, оставляя все прочее за кадром. И если роман «Бесы» ставрогиноцентричен, то здесь того нет вовсе. Есть лишь Верховенский, выполняющий, скорее, функцию техническую, чем драматургическую. Он связывает жизни героев воедино и представляет собой жернова судьбы, перемалывающие людей ради чего-то большего, им неведомого и непонятного.
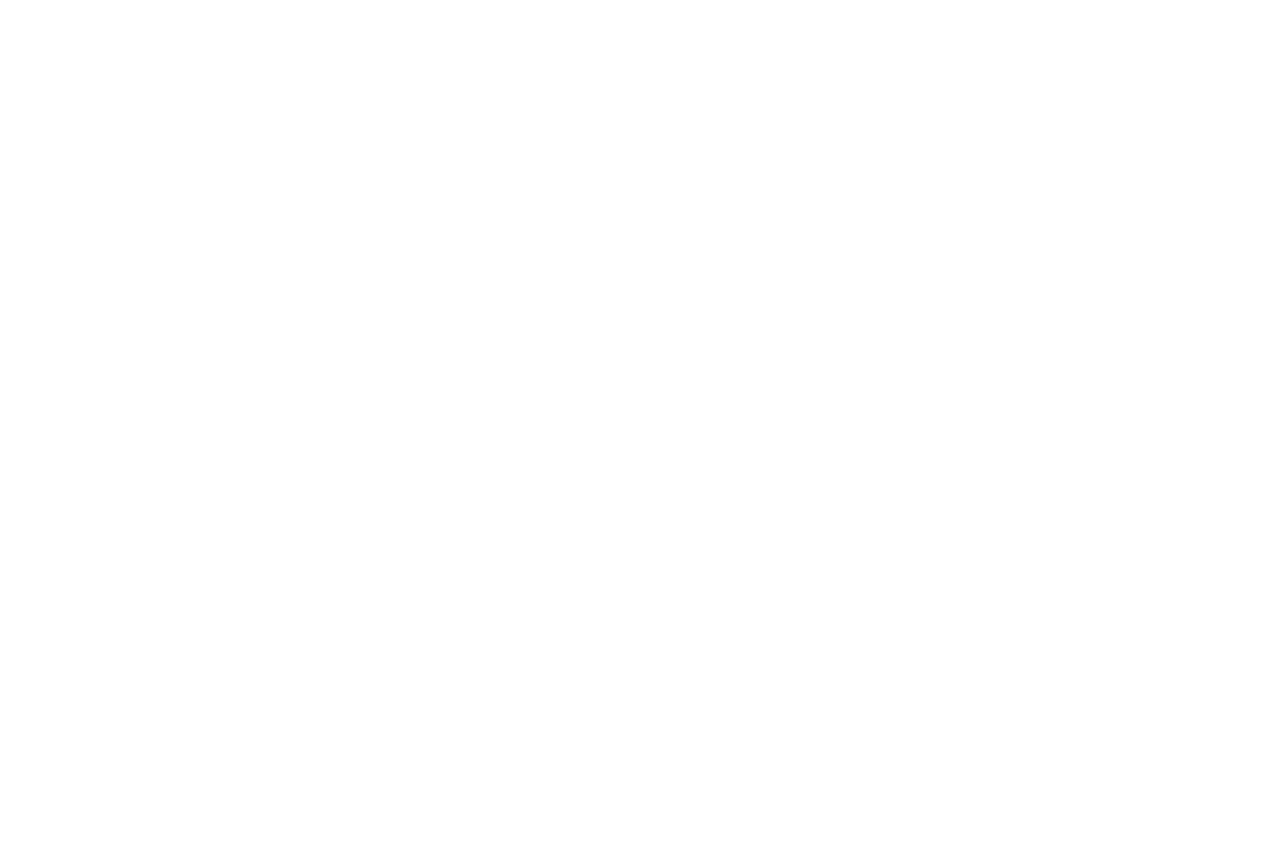
История Шатовых развивается будто бы параллельно той, которую мы знаем из книги. Здесь нет какой-то существенной литературной адаптации. Текст все тот же, просто акцент смещен на Шатова и его жизнь. Оказывается, когда в комнате нет Ставрогина или Верховенского, другие люди начинают жить. Для Шатова в момент возвращения Марии будто бы перестает существовать весь остальной мир: он концентрируется на ней, на рождении ребенка, и в этом случае его смерть становится не естественным и запланированным событием, а трагедией, ломающей три жизни сразу. Сцена убийства Шатова повторяется из раза в раз — с криком, шумом и грохотом, словно не давая нам забыть о том, что несмотря на все сказанные слова исход предрешен.
Кириллов же здесь с самой первой минуты балансирует на грани жизни и смерти — буквально и физически. Стоя на дрожащем камне, вытянувшись в напряженную струну он знает, что умрет. Убеждения Верховенского, попытки того заставить Кириллова взять на себя вину за убийство Шатова выглядят далекими и мирскими. Единственное, что выбивается из этого меланхолично-пластического повествования, существующего будто над всей революционной философией, толкаемой Верховенским — момент смерти, последнего боя. И проигравший его — освобождается. Это Верховенскому придется идти дальше, нестись, спотыкаясь о собственные ошибки, до хрипа спорить со Ставрогиным, которого тут будто бы и не было никогда: его Верховенский выдумал и уверовал в него бездоказательно.
Кириллов же здесь с самой первой минуты балансирует на грани жизни и смерти — буквально и физически. Стоя на дрожащем камне, вытянувшись в напряженную струну он знает, что умрет. Убеждения Верховенского, попытки того заставить Кириллова взять на себя вину за убийство Шатова выглядят далекими и мирскими. Единственное, что выбивается из этого меланхолично-пластического повествования, существующего будто над всей революционной философией, толкаемой Верховенским — момент смерти, последнего боя. И проигравший его — освобождается. Это Верховенскому придется идти дальше, нестись, спотыкаясь о собственные ошибки, до хрипа спорить со Ставрогиным, которого тут будто бы и не было никогда: его Верховенский выдумал и уверовал в него бездоказательно.

Сцена разделена надвое и скорее представляет собой полосу препятствий, чем пространство для существования. Она условна и в то же время интуитивно понятна, как и камень, нависающий над собирающимся убить себя Кирилловым. Так и бесконечно тянущаяся в темноту дорога, на которой виднеются не то стражи, не то огромные страшные птицы в черных шинелях — «вестники» чего-то страшного и неотступно, след в след, преследующего персонажей. И пусть сцена кажется огромной, раскинувшейся во все стороны, пространство все равно давит и заставляет вглядываться в сумрак — а вдруг кто-то смотрит на тебя оттуда в ответ.
Здесь действительно много библейских отсылок, от которых никуда не деться. Взять хотя бы философию Кириллова, отрицающего существование Бога, чтобы стать Богом для себя самого. Или сцену рождения ребенка Марии, через пластику уводящую во что-то иконописное. Разговоры о вере, Боге и бесах, пронизывающие весь роман Достоевского, здесь же разбросаны осколками и порой безмолвными упоминаниями, скорее ощущающимися, чем проговариваемыми вслух.
Здесь действительно много библейских отсылок, от которых никуда не деться. Взять хотя бы философию Кириллова, отрицающего существование Бога, чтобы стать Богом для себя самого. Или сцену рождения ребенка Марии, через пластику уводящую во что-то иконописное. Разговоры о вере, Боге и бесах, пронизывающие весь роман Достоевского, здесь же разбросаны осколками и порой безмолвными упоминаниями, скорее ощущающимися, чем проговариваемыми вслух.
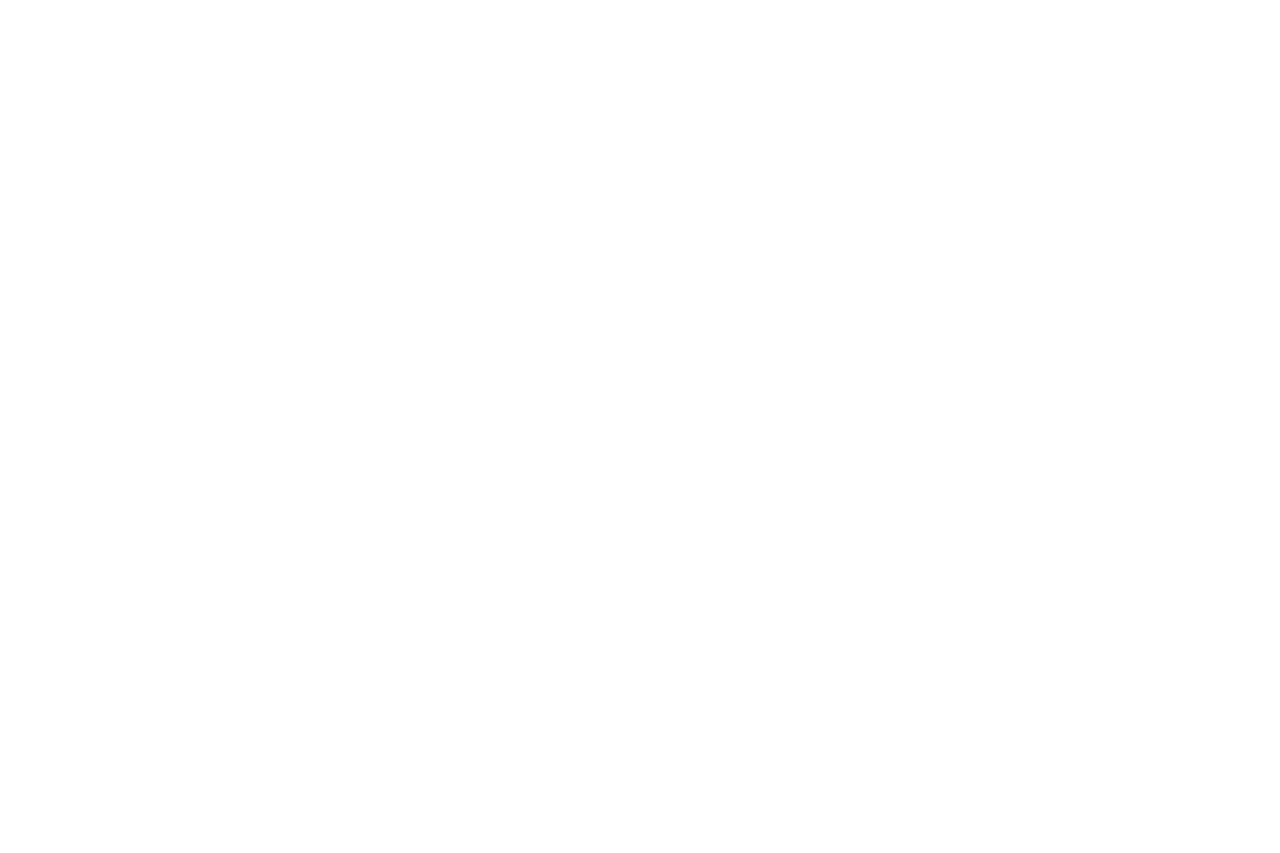
Все это приводит к тому, что спектакль по-бутусовски пластичен и через это метафоричен. Так и последняя метафора — освобождение через смерть и уход туда, где нет пригибающего к земле давления хищных птиц, где есть только высокая, выше человеческого роста трава, затеряться в которой проще простого — это и есть счастливый конец. Лучший конец из всех возможных для них, попавшихся на пути бесам.
Текст: Марго Сабилло
Фото: Тамара Шеховцова
Фото: Тамара Шеховцова
